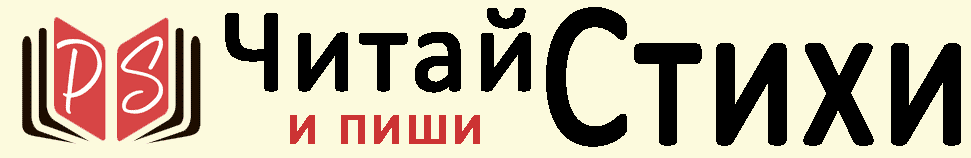Образ родной природы в стихах Апухтина
И кажется, вновь надо мной
Все радостно грезит свободой,
Все веет и дышит весной.
А. Апухтин
Широкому читателю Алексей Николаевич Апухтин известен прежде всего как автор романсных стихов, положенных на музыку П. А. Чайковского, С. А. Рахманинова. Однако роль поэта в русской литературе куда более значительна. Главная тема его творчества – внутренний мир человека, и, хотя пейзажная лирика в апухтинской поэзии практически отсутствует, автор мастерски переплетает образы родной природы с переживаниями и размышлениями своего героя, делая картину более яркой.
Преемник Пушкина
Упражняться в стихосложении Алексей Апухтин начал ещё в детстве, и уже к 16 годам ему предрекали славу Пушкина. Сам же юноша, будучи большим поклонником Александра Сергеевича, в своих ранних сочинениях нередко подражал любимому автору. Взять, например, написанное еще в отрочестве стихотворение «Первый снег»:
Картин знакомый ряд встаёт передо мною,
Я вижу небеса, подернутые мглою,
И скатерть снежную на сглаженных полях,
И крыши белые, и иней на дровах…
Апухтинское «Прощание с деревней» звучит тоже весьма по-пушкински:
Прощай, приют родной, где я с мечтой ленивой
Без горя проводил задумчивые дни.
Благодарю за мир, за твой покой счастливый,
За вдохновения твои!
Увы, в последний раз в тоскливом упоеньи
Гляжу на этот сад, на дальние леса…
По мнению литературоведов многие ранние стихотворения А. Апухтина буквально сотканы из пушкинских реминисценций, хотя в «Проселке» и «Деревенских очерках» отчётливо звучат некрасовские интонации:
По Руси великой, без конца, без края,
Тянется дорожка, узкая, кривая,
Чрез леса да реки, по степям, по нивам,
Все бежит куда-то шагом торопливым,
И чудес, хоть мало встретишь той дорогой,
Но мне мил и близок вид ее убогой.
Утро ли займется на небе румяном –
Вся она росою блещет под туманом;
Ветерок разносит из поляны сонной
Скошенного сена запах благовонный;
Все молчит, все дремлет, – в утреннем покое
Только ржи мелькает море золотое,
Да куда ни глянешь освеженным взором,
Отовсюду веет тишью и простором.
На гору ль въезжаешь – за горой селенье…
Здесь, представляя читателю покосившиеся крестьянские домишки на фоне мирной картины природы, автор размышляет о нелёгкой доле простого народа.
«Цветы запоздалые…»
Для поздней апухтинской лирики характерны меланхолические настроения. Уединившись в отцовском имении под Орлом, поэт пишет для узкого круга друзей. Главной темой для автора, в душе которого наметился надлом, является увядание сада, прощание с жизнью, тоска по несбывшемуся и желание насладиться последними мгновеньями. И, конечно, любимый образ – поздние цветы, уже увядающие, прихваченные первым морозцем, но ещё невыразимо прекрасные:
Кончалось лето. Астры отцветали…
Под гнетом жгучей, тягостной печали
Я сел на старую скамью,
А листья надо мной, склоняяся, шептали
Мне повесть грустную свою.
«Давно ли мы цвели под знойным блеском лета,
И вот уж осень нам грозит,
Не много дней тепла и света
Судьба гнетущая сулит.
Но что ж, пускай холодными руками
Зима охватит скоро нас,
Мы счастливы теперь, под этими лучами,
Нам жизнь милей в прощальный час.
Смотри, как золотом облит наш парк печальный,
Как радостно цветы в последний раз блестят,
Смотри, как пышно-погребально
Горит над рощами закат!
Мы знаем, что, как сон, ненастье пронесется,
Что снегу не всегда поляны покрывать,
Что явится весна, что все кругом проснется, –
Но мы… проснемся ли опять?
Вот здесь, под кровом нашей тени,
Где груды хвороста теперь лежат в пыли,
Когда-то цвел роскошный куст сирени
И розы пышные цвели.
Пришла весна; во славу новым розам
Запел, как прежде, соловей,
Но бедная сирень, охвачена морозом,
Не подняла своих ветвей.
А если к жизни вновь вернутся липы наши,
Не мы увидим их возврат,
И вместо нас, быть может, лучше, краше
Другие листья заблестят. –
Ну что ж, пускай холодными руками
Зима охватит скоро нас,
Мы счастливы теперь, под бледными лучами,
Нам жизнь милей в прощальный час.
Помедли, смерть! Еще б хоть день отрады…
А может быть, сейчас, клоня верхушки ив,
Сорвёт на землю без пощады
Нас ветра буйного порыв…
Желтея, ляжем мы под липами родными…
И даже ты, об нас мечтающий с тоской,
Ты встанешь со скамьи, рассеянный, больной,
И, полон мыслями своими,
Раздавишь нас небрежною ногой».
В 1892 г. для публикации в новом сборнике Алексей Николаевич предложил такое стихотворение:
Родник любви бежит на дне души глубоком.
Как пылью, засорен житейской суетой…Но туча пронеслась с ненастьем и грозой, –
Родник бежит ручьём. Он вырвется потоком,
Он смоет сор и пыль широкою волной.
В этих строках – весь Апухтин: чувствуя ледяное дыхание неминуемой смерти, он свято верит в торжество новой жизни. Однажды, незадолго до кончины Алексей Николаевич произнёс: «Душа моя тепла…». Так оно и было. В своих стихах поэт остался для читателя тонко чувствующим и бесконечно искренним собеседником.